
Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Глава 3. Экспрессивная функция и проблема тела и душиВ чистом феномене экспрессивности, в том факте, что определенное явление просто «дано» и зримо как изнутри одушевленное, перед нами предстает тот способ, каким сознание, оставаясь самим собой, одновременно постигает другую действительность во всей ее непосредственности. Мы уже не задаемся вопросом о происхождении самого этого факта, поскольку ответ на него неизбежно вовлекает нас в порочный круг. Как постичь и вывести простой факт экспрессивности из чего-то ему трансцендентного, если мы приходим к любой «трансценденции», ко всякому содержанию реальности только посредством этого феномена? Скептическое отрицание первоначального «символического характера» восприятия подрубает корни любому нашему познанию действительности, но неудачной оказывается и любая попытка догматического обоснования такого познания. Здесь мы достигли той точки, где, словами Гёте, самое необходимое и «прирожденное» нам понятие причины и следствия грозит сбить нас с пути и привести к погибели32, поскольку применение категории причинности к чистой экспрессивной функции ничего в ней не объясняет, но лишь затемняет суть дела, отнимая у этой функции характер подлинного «прафеномена». Но не грозит ли нам сходная опасность, когда мы мыслим этот феномен как вид, принадлежащий какому-то роду, вместо того чтобы рассматривать его исключительно «в-себе», как нечто само по себе сущее? Можем ли мы разглядеть в феномене «выразительности» разновидность «символического», не утрачивая тем самым его особенности, его ничем не заменимой уникальности? Не нагружаем ли мы его тогда проблематикой, которая ему совершенно чужда и от которой он с легкостью ускользает? Ведь своеобразной привилегией экспрессии является то, что она не знает различия между «образом» и «вещью», «знаком» и «обозначаемым». В ней нет разрыва между явленным как «просто чувственное» существованием и опосредованно данным духовно-душевным смыслом. По самой своей сущности экспрессия явлена как внешнее, но само это внешнее пребывает внутри. Здесь нет ни скорлупы и ядра, ни «первого» и «второго», ни «одного» и «другого». Если мы определим понятие «символического» таким образом, что оно ограничится теми случаями, где проходит ясное различие между «просто» образом и «самой вещью», подчеркивая и развивая подобное различие, то, без сомнения, мы обнаружим себя в области, где это понятие не применимо.  Мы с самого начала дали понятию символа другое, более широкое, значение. Мы попытались охватить им совокупность феноменов, в которых чувственно данное всегда наполнено смыслом, где чувственность по самой сути своей предстает как проявленный и воплощенный смысл. Здесь эти два момента еще не расходятся таким образом, что мы осознаем их по их отличиям и по противоположности одного другому. Подобная форма знания относится не к началу, а к концу развития. Расхождение этих двух сторон, конечно, имеется в любом явлении сознания, будь оно даже самым примитивным; но эта раздвоенность поначалу потенциальна и еще не становится актуальной. Как бы далеко мы ни заходили в образования чувственно-духов- 81 ного сознания, мы нигде не находим ero беспредметным, абсолютно простым, предшествующим всем отличиям и различиям. Оно всегда явлено как жизненное единство, разделенное в самом себе, как Но эти единство и простота, эта самоочевидность тут же улетучиваются и освобождают место в высшей степени сложной проблематике, как только философия, т.е. чисто теоретическое рассмотрение мира, обращается к феномену экспрессии и относит его к своей юрисдикции. Теперь различие сокрытых в нем моментов доходит до различия источников. Феноменологический вопрос превращается в онтологический, а вопрос о «смысле» экспрессии сменяется вопросом о лежащем в его основании бытии. Такое бытие уже нельзя мыслить простым, оно предстает, скорее, как связь двух гетерогенных элементов. В феномене экспрессии соединены и взаимосвязаны «физическое» и «психическое», «душа» и «тело». Но как возможно подобное «соединение» двух полюсов, если они ведут свое происхождение из двух различных миров и этим мирам принадлежат? Как может сочетаться в опыте то, что по метафизической сущности самих вещей кажется противоположным? Нить, связующая душевное и телесное в феномене экспрессии, тут же рвется, стоит нам от уровня явлений перейти к уровню бытия, т.е. метафизического познания. Между телом и душой, как метафизическими субстанциями, нет никакого посредника. Стремлением онтологии, начиная уже с первых ее обоснований, было замещение проблемы смысла проблемой чистого бытия. Бытие представляет собой тот фундамент, на который должен опираться в конечном счете всякий смысл. Ни одно символическое отношение нельзя признать познанным и достоверным, пока не удалось показать его «fundamentum in re», т.е. до тех пор, пока ero значение не было сведено к некоему реальному определению и им обосновано. Здесь мы имеем дело прежде всего с двумя определениями, задающими всю метафизическую проблематику, — определениями в понятиях вещи и причины. Все прочие отношения в конечном счете подпадают под категории вещи и причины, и из них эти отношения формально выводятся. Все то, что прямо не дано как отношения «вещей» и «свойств», «причин» и «следствий» или не преобразовано в такие отношения работой мышления, остается в конечном счете, непонятным. А невозможность понимания чего-либо делает подозрительным самое его существование, угрожая ему обращением в лишенную сущности видимость, в обманчивую иллюзию чувств или воображения. Со всей ясностью это видно по судьбе проблемы души и тела после того, как она окончательно покидает почву «опыта» и переходит в сферу метафизического мышления. При этом переходе нужно как бы разучиться говорить 82 на уже имеющемся языке. Осмысленным и понятным язык чистой экспрессивной функции становится лишь там, где его удается перевести на язык субстанциального метафизического видения мира, на язык понятий субстанции и причины. Но все усилия, затраченные на такой перевод, оказываются в конечном счете недостаточными. Всякий раз сохраняется темный остаток, который словно издевается над всей метафизической работой мысли. Вся работа метафизики со времен Аристотеля не смогла целиком овладеть этим остатком и не сумела справиться с «иррациональностью» отношения душа — тело. Вопреки всем усилиям великих классических систем Нового времени, несмотря на все предпринятые «рационализмом» попытки — Декарта и Мальбранша, Лейбница и Спинозы — покорить эту проблему, вовлекая ее в свою сферу, она, кажется, не сдвинулась со своего места и не утратила странного и парадоксального «упрямства». Современный метафизик, если он желает быть в то же самое время феноменологом, стоит тогда перед сложной дилеммой. Ему тоже не удается целиком перенести проблему в сферу метафизического познания бытия и сущности, высветив ее светом такого познания. Но, в то же время, он должен признать, что эта недоступность связана не с изначальной темнотой проблемы. Только смена освещения, только переход от опытного аспекта к метафизическому создает те странные сумерки, в которых блуждала проблема души и тела на протяжении истории метафизики. Главной заслугой метафизики Николая Гартмана является то, что он с присущей его мышлению остротой и силой уловил и безоговорочно признал эту ситуацию33. В своей «метафизике познания» Гартман уже не стремится, подобно авторам старых метафизических систем, разогнать эти сумерки, он хочет только на них указать. Гартман не ищет решения метафизических задач любой ценой, но удовлетворяется ясным и полным их представлением. Поэтому важной частью его метафизики становится «апоретика». На первый взгляд может показаться, что при непосредственном феноменологическом рассмотрении проблемы души и тела у нас нет места для такого рода апоретики. Гартман сам исходит из того, что единство души и тела наличествует в сущности человека, а потому оно нуждается лишь в раскрытии. Это единство существует и сохраняется, пока мы не начинаем искусственно его разрывать. Но именно притязавшие на объяснение отношения между душой и телом традиционные метафизические системы были повинны в таком искусственном разрыве. Ни теория взаимодействия, ни теория психофизического параллелизма не справлялись с поставленной ими самими задачей: заменить феноменологическое описание фактами совсем иного рода. Но это единство разрушается и у самого Гартмана, когда от бесспорного представления феноменов он переходит к попытке прояснения и объяснения их посредством мышления. С точки зрения чистого сознания и переживания, мы не сомневаемся в том, что мы не ведаем ни души без тела, ни тела без души. Но такое единство знания еще не означает единства познания. Хотя в непосредственном знании «физическое» и «психическое» выступают не просто соединенными, но нераздельно слитыми, нам не удается превратить эту фактическую связь в понятийную, обладающую понятийной необходимостью. «Остается непостижимым, как один и тот же процесс начинается как телесный, а заканчивается как душевный. In abstracto мы понимаем, что так может произойти, но in concreto мы не понимаем, как именно это произошло. Здесь мы имеем дело с абсолют- 83 ной границей познаваемости, где отказывают все категории, будь они физиологическими или психологическими. Принятие "психофизической причинности", действующей по обе стороны, было результатом натуралистической наивности. Мы даже можем задаться вопросом, примыкают ли друг к другу физиологическое и психологическое, соприкасаются ли они по одной общей линии, или же они, скорее, расходятся в разные стороны, а между ними существует еще одна, третья, иррациональная сфера... Онтологически их единство неоспоримо, но оно не улавливается ни физиологически, ни психологически, а потому его следует признать чисто онтическим, независимым от всякого постижения, как одновременно метафизическое и метапсихическое, короче говоря, как иррациональный глубинный слой психофизического существа... Единая сущность психофизического процесса лежит тогда в этом онтологическом глубинном слое; это — онтически реальный, иррациональный процесс, который сам по себе не является ни физическим, ни психическим, но в этих двух областях выходит на поверхность сознания»34. В этих суждениях Гартмана с образцовой ясностью и четкостью сформулированы характерные черты общего подхода метафизики к проблеме отношения тела и души. Когда оказывается, что единство души и тела невозможно отрицать как феномен, а в понятиях метафизики он получает лишь несовершенное, а то и противоречивое представление, то отсюда делается вывод не о недостаточности наших понятий, но об иррациональности бытия. Вина за раскол единства феномена на составные элементы возлагается не на метафизическое мышление — непостижимость и противоречивость перемещаются в сердцевину самой действительности. В самом бытии зияет hiatus irrationalis, и это зияние не заполнить никакими усилиями мышления. Чтобы перейти через пропасть, разделяющую психическое и физическое, остаются, по-видимому, лишь один путь. Хотя в сфере эмпирически нам известного обе эти реальности остаются гетерогенными, и должны таковыми оставаться, все же существует возможность того, что, при всей их несоизмеримости, можно установить между ними внутреннюю связь, поскольку они происходят из общего основания. Этот общий источник не найти в сфере опыта, но его нужно искать в трансцендентной области, а из этого следует, что мы не познаем его в полном смысле слова, но только гипотетически предполагаем его существование. «Параллелизм душевных и телесных явлений, — делает отсюда вывод Гартман, — был бы тогда необходимым следствием этого общего корня. Единый онтически реальный процесс, о котором должна идти речь... начинается и завершается не в физическом, не в психическом, но в реальном третьем, недоступном непосредственному сознанию; физические или психические процессы являются лишь различными членами или частями этого реального процесса»35. Мы видим, что ответ современной метафизики на вопрос о связи души и тела отличается от старых метафизических систем по содержанию, но не по общему концептуальному типу. Первоосновой, в которой ищут снятие противоположностей, является уже не Бог, как это было в окказионализме, в философии тождества Спинозы или в системе предустановленной гармонии Лейбница. Однако неизменной остается функция, выполняемая этой первоосновой: в ней должно воссоединиться эмпирически несоединимое, в сфере абсолютного бытия свершается «coincidentia oppositorum». Однако этим проблема не решается, 84 а только смещается. Ведь вопрос о связи между телом и душой был поставлен перед нами феноменами, в которых они никогда не явлены разделенными, но даны во взаимосвязи. Мы не получим ответа на этот вопрос, если феноменальное единство объясняется из непознаваемой трансцендентной первоосновы. В любом феномене экспрессии переживается неразрывная корреляция, конкретный синтез телесного и душевного. Конкретное переживание не «объяснить» и не понять из «caput mortuum абстракции», как называл Гегель «вещь-в-себе» в качестве последнего общего корня всех эмпирических различий. Проблема была поставлена самим опытом, она выросла на его почве, а потому следует справляться с нею его собственными средствами. Скачок в метафизическую сферу нам тут не поможет, поскольку вопрос об отношении тела и души принадлежит уже «естественной картине мира», с необходимостью возникает в ее границах, в рамках ее теоретического горизонта. Чтобы увидеть эту проблему в ее первоначальной и подлинной форме, нам следует обратиться к данному горизонту во всей его широте и во всем многообразии его аспектов. Этот горизонт произвольно сужается, а многообразие искажается, когда для всех эмпирических сущих и событий в качестве единственной конститутивной категории применяется категория причинности. С точки зрения теоретического естествознания такое применение, быть может, оправдано, поскольку природа для него есть не что иное, как «существование вещей, насколько они определяются всеобщими законами». И все же эти порядок и определенность, согласно законам, посредством которых изначально конституируется «предмет» естествознания, никоим образом не являются единственной формой эмпирической определенности. Не всякая эмпирическая «связь» прямо или косвенно растворяется в каузальной. Скорее, имеются некие базисные формы связи, доступные пониманию ровно настолько, насколько они сопротивляются подобному растворению, когда мы берем их как образования sui generis. Прототипом такой связи является изначальная связь «тела» и «души». Что же касается метафизики, то ее история все отчетливее свидетельствует, что она никак не может свести эту связь к схеме каузального мышления; как раз применение такой схемы было исходным пунктом и причиной множества апорий и антиномий. Но сама метафизика сделала отсюда лишь один вывод — что эмпирическая причинность в этом пункте должна замещаться причинностью другой формы и Другого достоинства, а именно «трансцендентной» причинностью. Их отношение берется ею уже не как принципиально не-каузальное, но как транс-каузальное. как причинность иного, более высокого уровня. «Господствующий в онтологическом поле, охватывающем всю сферу бытия, принцип детерминации, — подчеркивает Гартман, — соединяющий многообразные гетерогенные сущие лишь по их бытийности, разумеется, должен быть значительно более общим, чем причинная связь. Он должен относиться к связи объективированной природы, как трансобъективное относится к объективированному. Его не следует искать по сю сторону причинности, но по ту сторону; он не может быть ни каузальным, ни цискаузальным, но лишь транскаузальным; речь идет о типе детерминации трансобъективного, насколько оно принадлежит той же сфере бытия, что субъект и стоящая за ним транссубъективность»36. Вместо эмпирической детерминации, господствующей в мире пространственно-временных событий, принимается другая, 85 «интеллигибельная» детерминация, которая может полагаться лишь с тем условием, что мы одновременно утверждаем ее далее не сводимую иррациональность и принципиальную непознаваемость. Но не обнаруживается ли глубинный источник этой иррациональности в том, что мы с самого начала прилагаем ложный масштаб к тому феномену, который мы хотели прояснить? История метафизики ясно показывает нам, что всякая попытка описания отношений тела и души как отношения обусловливающего и обусловливаемого, «причины» и «следствия» ведет к неизбежным затруднениям. Это отношение вновь и вновь ускользает от мышления, ищет ли его последнее в сплетениях эмпирической причинности или в сфере чисто интеллигибельной детерминации. Ведь любая детерминация делает душу и тело двумя самостоятельными сущностями, где одна из них обусловливает и определяет другую, тогда как именно такой форме детерминации постоянно сопротивляется тот своеобразный модус взаимной переплетенности и включенности, каковым является отношение души и тела. Решение нам может дать не продвижение в мир метафизики, построенный с помощью понятий субстанции и причины и ими управляемый, но возвращение к «прафеномену» экспрессивности. Для любой метафизики, не желающей с самого начала быть «онтологией», но признающей своеобразную структурированность феномена экспрессии, проблема сразу предстает в ином виде. В современной метафизике первым на этот путь вступил Клагес. Для него чистые выразительные переживания означают своего рода Архимедову точку опоры, отталкиваясь от которой он хочет перевернуть мир онтологии. Тем самым отменяется раскол бытия на телесную и душевную «половинки». «Душа составляет смысл тела, а тело есть явленность души, — замечает Клагес. — Ни первая не воздействует на второе, ни второе на первую, ибо оба они не принадлежат миру вещей. "Воздействие" неразрывно привязано к взаимодействию вещей, а потому отношение причины и следствия есть обозначение связи между уже разделенными частями. Однако смысл и явление представляют собой саму связь, скорее, даже образец для всякой связи. Если кому-то трудно представить себе отношение, несопоставимое с отношением причины и следствия и несравнимо превосходящее его по глубине, то на помощь можно призвать отношение знака к обозначаемому... Подобно тому как понятие входит в произнесенный звук, так душа открывается в теле: в одном случае мы имеем смысл слова, в другом — смысл тела. Слова есть одеяние мысли, а тело есть явленность души. Как нет бессловесных понятий, так нет и не явленных душ»37. Мы принимаем эту чеканную формулировку, поскольку она подводит нас к центральному пункту нашей собственной проблематики. Отношение души и тела представляет собой первый образец того чисто символического отношения, которое не трансформируется в отношение вещей и еще менее в причинное отношение. Поначалу здесь нет ни внутреннего, ни внешнего, нет «раньше» и «позже», воздействующего или находящегося под воздействием. Здесь царствует связь, не нуждающаяся в том, чтобы ее собирали из разделенных элементов, но первично являющаяся исполненным смысла целым, распадающимся на дуальность составных моментов, чтобы иметь возможность самому себя «истолковать». По-настоящему подойти к проблеме души и тела можно лишь с признанием общего принципа, гласящего, что все субстанциальные и причинные связи восходят к смысловой связи такого рода. Последние не обра- 86 зуют особого класса в рамках субстанциальных и причинных связей, но являются их конститутивной предпосылкой, conditio sine qua non, на котором сами эти связи покоятся. По ходу нашего исследования мы будем все яснее видеть то, что именно символические функции «представления» и «значения» дают нам доступ к «объективной» действительности, а о последней мы имеем право говорить в терминах субстанциальных и причинных связей. Такова духовная триада — функций экспрессии, представления и обозначения, — благодаря которой становится возможным созерцание артикулированной действительности. Именно поэтому любое объяснение этих функций посредством сравнения их с чем-либо позаимствованным из мира вещей оказывается ύστερον πρότερον. Отношение «явления» к душевному содержанию, в нем выраженному, отношение слова к смыслу, этим словом представленному, наконец, отношение сколь угодно абстрактного «знака» к значению, на которое знак указывает, — все это не имеет себе аналога в том, как вещи соотносятся в пространстве, а события следуют друг за другом во времени. Специфический смысл такого отношения содержится в них самих, его не прояснить с помощью аналогий, взятых из мира, ибо сам мир становится «возможным» лишь благодаря этому смыслу. Познанию этого отношения всякий раз препятствует то, что акты выражения, представления и обозначения не даны нам непосредственно как таковые и становятся зримыми не иначе, как в целостности своего действия. Они имеются, пока они задействованы, пока они сами о себе свидетельствуют. Изначально они направлены не на самих себя, а на предстоящую им работу, на то бытие, чью духовную форму они должны создать. Поэтому поначалу невозможно иное описание их действительности помимо действенности их работы, помимо ими совершенного и как бы говорящего их собственным языком. Это отношение появляется впервые не в «спекулятивном» истолковании в узком смысле слова, которое получают феномены в рамках метафизики. В особенности это касается отношения души и тела, предстающего в любом экспрессивном переживании как наивное и нетронутое единство еще до того, как им занялась какая бы то ни было метафизика. Уже мифологическая картина мира пробивает в нем брешь, ибо даже она содержит в себе дуализм, доводящий раздвоенность моментов до субстанциального разделения двух сущностей. В начальный период миф еще не осуществил выбора между двумя установками — он как бы стоит между позицией чисто экспрессивной феноменальности и позицией теоретической, «Метафизической» интерпретации. Разделение тела и души сюда уже привнесено, но оно еще не обладает той радикальной остротой, которую оно приобретет в дальнейшем. Миром правит магическая сила, мыслимая как одновременно телесная и духовная, как совершенно равнодушная к такому обособлению. Она охватывает и «вещи», и «личности», и «вещественное», и «невещественное», и живое, и неживое. Можно сказать, что здесь улавливается и мифологически объективируется таинство деяния, в котором еще не проведено разграничение между «душевным» и «телесным»38. Такое разграничение происходит лишь там, где сознание «имеет» и переживает мир не только как целостность экспрессивных характеристик, но где оно переходит к постижению действительности, предполагающему наличие у нее прочного субстрата. Подобная субстанциализация (на ступени «конкретного» мышления, кою мы пока не покидаем) возможна только потому, что 87 она приобретает форму пространственной определенности и пространственного созерцания. «Общность» между душой и телом является теперь в качестве их простой «совместности», включающей в себя и их различие. Раздвоенность моментов становится раздвоенностью областей: действительность, наконец-то, разлагается на «внутренний мир» и «внешний мир». Телесное теперь уже не выступает как простая экспрессия, как непосредственная манифестация душевного. Тело не столько включает в себя, сколько скрывает в себе душу, образуя прочную ее оболочку. Только вместе со смертью душа прорывается сквозь эту скорлупу и возвращается к своей истинной сущности, к своим ценности и смыслу. Но эта первоначальная мифологически-религиозная концепция по-прежнему держится связи души и тела, поскольку они, при различиях по сущности и по источнику, остаются внутренне связанными судьбой. Единство мифологической судьбы занимает здесь место онтического единства сущности. Приговором судьбы душа заключена в круговорот телесного становления, привязана к «колесу рождений». Сила и прочность этой мифологической связи не снимает разделения, произошедшего между сферами телесного и душевного бытия; но она все же препятствует тому, что из этого разделения будут сделаны все логические выводы, имплицитно в нем содержащиеся. Только метафизическое мышление впервые совершило последний и решающий шаг. Оно сделало «совместность» души и тела просто эмпирическим, а потому случайным моментом. Такое случайное соединение не дает решения оппозиции, проистекающей из сущности их обоих. Никакое vinculum substantiale недостаточно сильно для того, чтобы сковать изначально гетерогенное в истинное единство. По ходу своей истории метафизика все чаще вступает на этот путь. У Аристотеля душа еще является энтелехией тела, а тем самым его истинной «действительностью». Однако метафизика Нового времени, лишив тело всего, что принадлежит сфере чистой «выразительности», превращает его в просто физическое тело и, более того, определяет материю этого тела как чисто геометрическую материю. После Декарта единственным необходимым признаком тела остается протяженность — длина, ширина, высота. К тому же все душевное бытие, всякое бытие сознания сводится к акту cogitatio. Между миром пространства, возведенным геометрией и математикой, и принципиально внепространственным бытием, улавливаемым актом мышления, не существует ни логических, ни эмпирических опосредований; только в трансцендентной божественной первооснове обнаруживается тот посредник, где оба эти бытия соединяются и снимается их противоположность. Но такое снятие их в абсолюте ничуть не уменьшает их эмпирико-феноменальной противоположности, становящейся в итоге еще более острой. В конечном счете мы избегаем этих противоположностей только поднявшись к их подлинному источнику. Мы должны вернуться к средоточию того символического отношения, в котором в чистом феномене экспрессии явлена взаимная связь душевного и телесного. Но своеобразие этого отношения прояснится лишь в том случае, если экспрессивная функция предстанет не как изолированный момент, но как член всеобъемлющего духовного целого. Нужно определить ее место в этой целостности и понять особенности ее действия. 88 Примечания 1 Грумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества. М., 1984. С. 170—171. 2 Natorp P. Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Tuebingen, 1912. S. 19 f. 3 Ibid. 4 см., прежде всего, изданные посмертно «Лекции по практической философии», а также мой некролог в: Kantstudien. Bd. 30, 1925. 5 Allgemeine Psychologie. S. 99. 6 Ibid., S. 221. 7 Ibid., S. 72. 8 Ibid., S. 94. 9 Ср.: Τ. 2. С. 15. 10 Koffka К. Die Grundlagen der psychischen Entwicklung. Osterwieck am Harz, 1921. S. 94 ff; аналогичные наблюдения и выводы можно найти у Бюлера и у Штерна. См.: Büler К. Die geistige Entwicklung des Kindes. Jena, 1929. S. 83 ff; Stern W. Psychologie der frühen Kindheit bis zum sechsten Lebensjare. Lpz., 1923. S. 312. 11 Koehler W. Zur Psychologie des Schimpansen // Psychologische Forschung. Bd. I, 1922. S.27 f., S. 39. 12 См. подробнее: Т. 2. С. 53 и далее, а также в моем исследовании: Sprache und Mythos, Studien der Bibl. Wartburg, Lpz., В., Bd. 6. S. 75 ff. 13 См. подробнее: Т. 2. С. 47 и далее. 14 Ср., например: Budge В. Egyptian Magic. L., 1899. P. 65: «The Egyptians... believed that it was possible to transmit to the figure of any man or woman or animal or living creature the soul of the being, which it represented and its qualities and attributes. The statue of a god in a temple contained the spirit of the god, which it represented and from time immemorial the people of Egypt believed that every statue and figure possessed an indwelling spirit». («Египтяне верили в возможность передачи фигуре любых мужчины, женщины, живого существа души существа, этой фигурой представляемого, равно как его качеств и атрибутов. Статуя бога в храме содержала в себе дух бога, которого она представляла, и с незапамятных времен египетский народ верил, что каждая статуя и фигура обладают обитающим в ней духом».) 15 По этому поводу подробнее см.: Т. 2. С. 165 и далее. 16 По поводу представлений мана см. прежде всего пояснения в работе: Sprache und Mythos. S. 51 ff и в T. 2. С. 88-92,168 и далее. 17 См.: Т. 2. С. 193 и далее, 204 и далее. 18 Vignoli Т. Mythus und Wissenschaft. Lpz., 1880. S. 5 ff., S. 45 ff. 19 Этот типичный для сознания животных «примат выразительных переживаний» со всей достоверностью был установлен в рамках новейшей психологии животных, прежде всего благодаря наблюдениям и обстоятельным исследованиям Пфунгста. Используя богатый материал наблюдений (не все собранные им данные были опубликованы), Пфунгст показал, что значительное число так называемых «умных действий» высших животных в действительности представляют собой экспрессивные действия. Они покоятся не на выводах и не на процессе мышления, но имеют своим основанием крайне тонкие ощущения, с помощью которых животные улавливают непроизвольные выразительные движения человека. 20 Vignoli Т. Mythus und Wissenschaft. S. 49. 21 См. подробнее в работе: Sprache und Mythos, особенно: S. 17 ff., 43 ff. 22 Hegel G. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. S.W. Lpz., 1949. Bd. 9. 23 Klages L. Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft, Aufl., 3 und 4. Lpz., 1923. S. 18. 89 24 См. прежде всего: Dilthey W. Ideen zu einer beschreibenden und zergliedernen Psychologie. Abhandl. Der Berliner Akademie der Wissensch., 1894. 25 Lipps T. Die ethische Grundfragen. 2.Aufl. Hamb., Lpz., 1905. S. 16. 26 См.: Scheler M. Wesen und Formen der Sympathie. Bonn, 1923. S. 282. 27 Ibid. S. 304. 28 «Трудно сказать, на каких данных должен основываться процесс вчувствования в свое собственное "Я", — отмечает Шелер, возражая против "теории вчувствования". — Разве для этого достаточно каких бы то ни было зрительных содержаний? Безусловно, нет — мы вообще не «вчувствуемся» в какие-либо зрительные содержания. Говорится, что зрительные содержания требуют «выразительных движений» или, по крайней мере, действий каких-нибудь живых существ. Но такой ответ ничего нам не дает. Что зримая нами картина какого-нибудь движения есть картина выразительного движения — это взгляд, уже предполагающий знание о наличии другого одушевленного нечто. Видение его как экспрессии есть не причина, но следствие данной предпосылки» (Scheler M. Op. cit. S. 278). 29 Scheler M. Ор. cit. S. 285. 30 Я приведу всего один пример, взятый из книги: Spieth J. Die Religion der Eweer in Sud-Togo (Lpz., 1911. S. 7 f.): «Когда первые поселенцы прибыли в Анво, один человек увидел в лесу гигантский баобаб. При виде этого дерева им овладел страх. Он пошел к жрецу, чтобы тот растолковал ему это, и получил ответ, что баобаб есть tro, которое хотело бы жить с ним и чтоб он ему поклонялся. Страх же был ему знаком, чтобы он осознал открывшееся ему tro». 31 См. мою работу: Sprache und Mythos, S. 18 ff., a также т. 2. С. 204 и далее. 32 См.: Goethe W., Über Naturwissenschaft in Allgemeinen, Naturwiss. Schriften (Weim.Ausg.). Bd. 11. 103. 33 В качестве дополнения к этим рассуждениям о метафизике Николая Гартмана см. мою статью Erkenntnistheorie nebst den Grenzfragen der Denkpsychologie // Jahrbücher der Philosophie, begr. von Frischeisen-Köhler / hrsg. von W. Moog. Bd. 3. Berlin, 1927. S. 79 ff. 34 Hartmann N. Grundzuge einer Metaphysik der Erkenntnis. В., 1921. S. 322 f. 35 Ibid. S. 324. 36 Ibid. S. 260 f. 37 Klages L., Vom Wesen des Bewusstseins, Lpz., 1912. S. 26 f. 38 См. подробнее: Т. 2. С. 168 и далее и в работе: Sprache und Mythos. S. 53 ff. В этом безразличии отображается одна из основных черт первичного выразительного переживания — это становится понятным, когда мы обращаем внимание на параллели между мифологически-магическим воззрением и другими «примитивными» образованиями сознания. Например, в детской психологии часто подчеркивалось, что «ребенок переживает духовно-личностное как конкретно-телесное». См. подробнее: Werner. Einführung in die Entwicklungspsychologie. § 43, а также: Stern W. Psychologie der frühen Kindheit. S. 417 ff. 90 |
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 326. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |
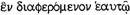 . Но там, где налично это различие, оно еще не положено как таковое; оно полагается лишь там, где сознание переходит от непосредственности жизни к форме духа и спонтанного духовного творчества. Лишь вместе с таким переходом получают развитие те полюса напряжения, что имплицитно уже содержались в простой фактичности сознания; то, что было — вопреки всем внутренним оппозициям — конкретным единством, теперь начинает разделяться и «истолковывать» себя в аналитической обособленности. Чистый феномен выразительности еще не знает подобной формы раз-двоения. В нем нам дан модус «понимания», не связанный с условиями понятийной интерпретации: простое изложение феномена является одновременно его истолкованием, причем единственно возможным и необходимым.
. Но там, где налично это различие, оно еще не положено как таковое; оно полагается лишь там, где сознание переходит от непосредственности жизни к форме духа и спонтанного духовного творчества. Лишь вместе с таким переходом получают развитие те полюса напряжения, что имплицитно уже содержались в простой фактичности сознания; то, что было — вопреки всем внутренним оппозициям — конкретным единством, теперь начинает разделяться и «истолковывать» себя в аналитической обособленности. Чистый феномен выразительности еще не знает подобной формы раз-двоения. В нем нам дан модус «понимания», не связанный с условиями понятийной интерпретации: простое изложение феномена является одновременно его истолкованием, причем единственно возможным и необходимым.