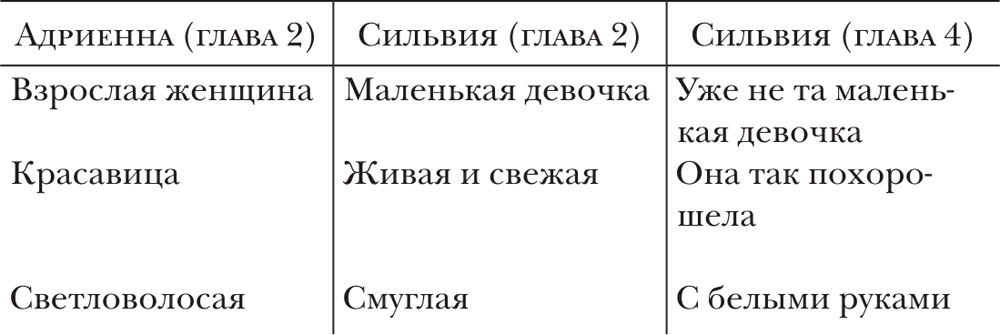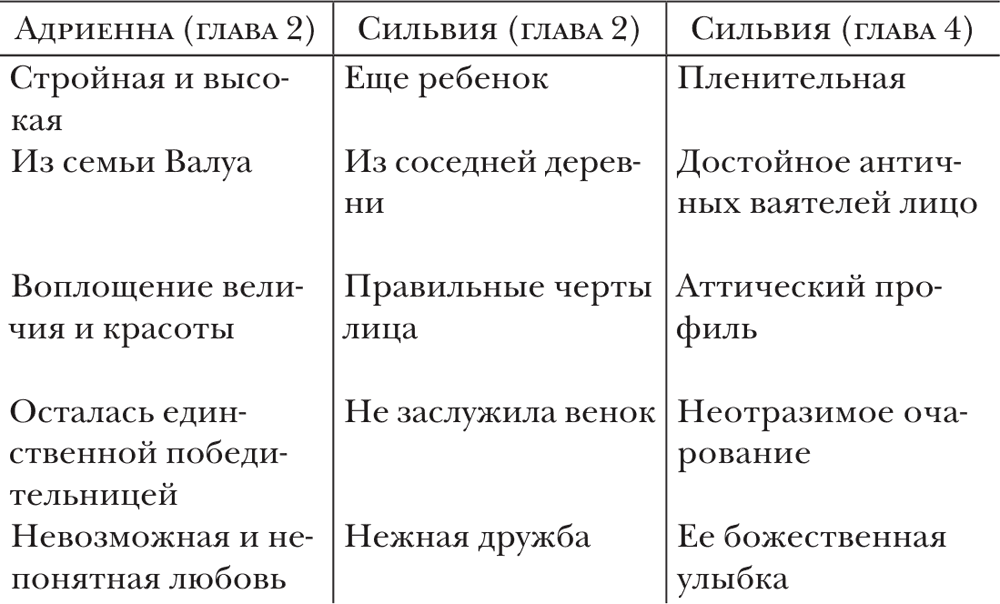Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Длительное незаконченное прошедшее время (имперфект) 4 страницаОбъекты желания
Почему нельзя выстроить связь времен? Потому что с течением времени Жерар мечтает о разных женщинах, но это течение имеет не линеарный, а спиралевидный характер. На каждом витке Жерар выделяет то одну, то другую женщину как объект желания, но иногда он их как бы немного путает. В любом случае каждый раз, когда возникает та или иная героиня (на самом деле или в воспоминаниях), она теряет какие-то черты, присущие ей ранее. Один объект желания Жерар описывает в общих чертах в самом начале повествования. Речь идет об идеале, царице или богине, в общем – о “недоступной женщине”. Тем не менее в последующих главах наш герой чего-то пытается добиться. Но как только желанная женщина приближается, Жерар находит причину, чтобы отдалиться. Таким образом, эффект дымки касается не только времени и пространства, но и объекта желания. В первой главе кажется, будто Жерару больше по душе грезы, чем реальность, и что его идеал воплощается в актрисе.
До определенного момента сцена кажется более реальной, чем зал, особенно для актрисы, для которой зрители не что иное, как “бесплотные тени”, пустая видимость. Но во второй главе создается впечатление, будто Жерар хочет чего-то более осязаемого, пусть и всего лишь вспоминая, как это осязаемое ему явилось. Адриенна в бледном лунном свете на лужайке – как раз та женщина, которой присущи все свойства актрисы на сцене.
А (1) / А (2) Бледная, как ночь / Сияние взошедшей луны озаряло лишь ее Она живет для меня одного / Я был единственным мальчиком в хороводе Переливы ее голоса / Проникновенный и чистый голос Магическое зеркало / Блуждающий огонек  Видение / Призрак, скользящий над зеленой травой Прекрасная, как день / Мираж, воплотивший в себе славу и красоту Подобна божественным Горам / Кровь Валуа течет в ее жилах Ее улыбка переполняет его душу / Они думали, что очутились в раю
Именно поэтому Жерар задает себе вопрос, а не любит ли он монахиню в облике комедиантки. Это сомнение будет терзать его до конца новеллы. Но Адриенна обладает не только, скажем так, идеальными чертами, но и физическими, благодаря которым и побеждает Сильвию, милую деревенскую девочку. Однако в четвертой главе, когда Жерар спустя годы снова встречается с подругой детства, превратившейся из ребенка в прекрасную юную девушку, теперь уже Сильвия обладает всеми прелестями исчезнувшей Адриенны и – пусть даже как бледное отражение – Аврелии, воспоминания о которой уже потеряли четкость.
Жерар не только подозревает, мечтает, боится, что Аврелия и Адриенна – одно и то же лицо, но и время от времени воображает, будто то, чего он желал бы от них обеих, сможет дать ему Сильвия. По невысказанным вслух причинам после второго праздника, уже даже сыграв с ней символическую свадьбу, он прекращает с ней общаться. Когда, стремясь избавиться от безнадежного увлечения Аврелией, Жерар вновь встречает Сильвию на балу (третьи танцы), он находит в ней много общего с той, от которой бежит, и понимает, что либо Сильвия для него потеряна, либо он для нее. Каждый раз, когда один женский образ вытесняет собой другой, когда нереальное становится более реальным, а следовательно – более доступным, герой готов поменять объект своего желания. Проклятие Жерара в том, что он всегда отрекается от того, что желал раньше, причем именно потому, что объект желания становится таким, как он мечтал. В тринадцатой главе мы видим, как Аврелия воплощает все мечты Жерара: она принадлежала другому человеку, но этот человек исчезает; обычно актрисы бессердечны, а она жаждет любви… Но, увы, то, что становится доступным, невозможно любить. Именно потому, что у Аврелии есть сердце, она уходит с тем, кто любит ее по-настоящему[20]. Это мучительное томление между желаемым и страхом достигнуть желаемого выражается в почти болезненно нервном внутреннем монологе в одиннадцатой главе. Пораженный двусмысленной новостью об Адриенне, Жерар, минуту назад испытывавший влечение к Сильвии, вдруг осознает, что было бы святотатством обольстить девушку, которая ему почти как сестра. Тогда же в его голове проносится мысль об Аврелии, и опять его желания устремляются к ней. Но в начале следующей главы он уже снова готов пасть к ногам Сильвии и предложить ей свой дом и переменчивую удачу. Жерар перестает различать между собой трех женщин, кружащих ему голову и кружащихся в танце вокруг него, он желает их троих – и всех троих теряет.
Год
С другой стороны, сам Нерваль делает все, чтобы заставить нас забыть некоторые факты. Чтобы помочь нам (или запутать нас), он выводит на сцену забывчивую Сильвию, которая только в конце рассказа вспоминает, что Адриенна умерла в 1832 году. Эта деталь больше всего приводит исследователей в недоумение. Зачем сообщать о столь важном событии только в конце новеллы, в то время как, согласно одной довольно наивной заметке во французском издании (коллекция La Pléiade издательства Gallimard ), мы ожидали бы подобного сообщения в начале? Здесь Нерваль использует прием, который Женетт называет “завершающим флешбэком”: рассказчик, сделав вид, будто забыл некую деталь, вспоминает о ней со значительным опозданием по ходу действия[21]. Подобное случается в рассказе не единожды. Как бы вскользь в одиннадцатой главе упоминается имя актрисы, но здесь такой прием кажется уместным. Именно в тот момент Жерар, предчувствуя конец идиллии с Сильвией, начинает думать об Актрисе, как о Женщине, к которой он смог бы приблизиться. А вот запоздалое упоминание даты смерти Адриенны кажется как минимум возмутительным, тем более что предваряется оно попыткой сбить нас со следа, на первый взгляд не имеющей оправдания. Итак, в одиннадцатой главе мы наталкиваемся на одно из самых туманных высказываний во всем тексте: cela a mal tourné . Для того, кто перечитывает новеллу, намек Сильвии в некотором роде предвещает финальное откровение, однако для читающего в первый раз, наоборот, оттягивает критический момент. Сильвия пока не говорит, что скончалась сама Адриенна, она говорит, что скверно сложилась ее судьба. Поэтому я не согласен с переводом “она плохо кончила” (лучше было бы перевести “это плохо кончилось”[22], оставив местоимение оригинала “это”, чтобы исключить предположение, будто речь идет о смерти Адриенны). В сущности, Сильвия говорит, что “ее история закончилась плохо”. Почему следует сохранить эту двусмысленность, позволяющую истолковать намек как подтверждение подозрений Жерара, что Адриенна стала актрисой? Потому что двусмысленность усиливает и оправдывает запоздание, при помощи которого Сильвия только в последней строчке текста окончательно разрушает все иллюзии Жерара. Сама Сильвия не уклончива по натуре. Для кого сообщение о смерти Адриенны имеет особое значение? Для Жерара, одержимого воспоминаниями об Адриенне и идеей ее возможного явления в образе Аврелии. Как к этому относится Сильвия, которой он еще не поведал свои навязчивые идеи (как поведал их Аврелии), если не считать смутных намеков? Для такого земного создания, как Сильвия, Адриенна не более чем призрак (причем один из многих, которые прошлись по этим краям). Сильвия не знает, что Жерар пытался узнать монахиню в актрисе, она даже не догадывается о существовании этой актрисы. Сильвия находится за пределами того изменчивого мира, в котором один образ переходит в другой, замещая его собой. Ей нет нужды открывать правду постепенно. Это делает Нерваль, а не она. Сильвия говорит уклончиво не из-за коварства, а скорее по рассеянности, потому, что для нее вся эта история не имеет значения. Она способствует разрушению мечты Жерара, потому что не знает о ней. Ее отношения со временем спокойны, связаны со светлой ностальгией или каким-либо нежным воспоминанием, которые не тревожат ее мирного настоящего. Именно поэтому из всех трех женщин в финале она становится самой недоступной. Ведь даже с Адриенной у Жерара был волшебный момент. С Аврелией, насколько мы понимаем, он добился любовной близости. А с Сильвией у него ничего не было, кроме совсем невинного поцелуя и еще более невинной игры в жениха и невесту в Отисе. В тот момент, когда Сильвия воплощает собой самую что ни на есть осязаемую реальность (озвучивая единственное во всей повести безусловно правдивое и привязанное к истории высказывание – дату), она безвозвратно потеряна. По крайней мере, как возлюбленная: отныне для Жерара она лишь сестра, к тому же замужем за его молочным братом. Вероятно, именно поэтому произведение озаглавлено “Сильвия”, а не “Аврелия” – как более поздняя пламенная новелла. Сильвия и есть настоящее утраченное и никогда не обретенное время, потому что она единственная, кто остается. Но это слишком сильное утверждение, в полной мере обретающее смысл лишь при сопоставлении Пруста и Нерваля. Примерно так: Нерваль отправляется искать утраченное время, но не находит его, убедившись в пустоте своих мечтаний. В таком случае финальная дата, произнесенная Сильвией, звучит как похоронный набат, который завершает историю. Тогда стал бы понятен интерес и почти сыновья привязанность Пруста к “отцу идеи утраченного времени”, который потерпел поражение, затеяв безнадежное предприятие (возможно, именно поэтому Лабрюни кончает жизнь самоубийством). Пруст как бы вызвался отомстить за поражение “отца” через собственную победу над Временем. Но когда Сильвия объявляет Жерару, что Адриенна уже давно скончалась? Во времени 13 (“следующим летом”, когда труппа Аврелии дает представление в Даммартене). Как ни считай, это точно происходит задолго до времени N, когда Жерар начинает повествование. Следовательно, когда Жерар вспоминает о вечере в театре, он уже знает , что Адриенна точно умерла в 1832 году. Несмотря на это, он заставляет нас вернуться ко временам хоровода на лужайке, рассказывает, в какой трепет его приводила мысль, что Адриенна и актриса могут быть одной и той же женщиной, как мелькнула безумная надежда увидеть ее за стенами монастыря Сен-Сюльпис. Во всем этом временном (или повествовательном) пространстве он вынуждает читателя разделять его сомнения. Следовательно, рассказ Жерара (а вместе с ним и Нерваля) не заканчивается, когда он понимает, что все кончено: напротив, именно после того как рассказчик это осознал, он начинает свою историю – и повествует о себе прежнем, который не знал и не мог знать, что все уже кончено. Разве так поступает человек, не способный свести счеты с собственным прошлым? Напротив, так делает тот, кто считает, что пересмотреть свое прошлое можно только тогда, когда нет настоящего, и что только воспоминания (пусть и слегка беспорядочные, а может, как раз только беспорядочные) позволяют найти нечто, ради чего стоит если не жить, то хотя бы умереть. Но если так, то Пруст видел в Нервале не слабого и беззащитного “отца”, за которого надо отомстить, а скорее необыкновенно сильного, которого стоит превзойти. И, возможно, посвятил жизнь этой задаче.
Уайльд. Парадокс и афоризм[23]
Афоризм с трудом поддается определению. Греческое по происхождению слово, кроме значений “подношение” или “пожертвование”, со временем стало обозначать “краткое изречение, высказывание, сентенция”. Таковы, например, афоризмы Гиппократа. Афоризм, по словарю Дзингарелли, – это “краткое изречение нравоучительного или философского характера”. Что же тогда отличает афоризм от любого другого изречения? Ничего, кроме краткости.
Мы часто утешаемся пустяками, ибо пустяки нас огорчают[24]. (Блез Паскаль. “Мысли”) Не будь у нас недостатков, нам было бы не так приятно подмечать их у ближних[25]. (Франсуа Ларошфуко. “Максимы и моральные изречения”) Память – это дневник, который мы постоянно носим с собой[26]. (Оскар Уайльд. “Как важно быть серьезным”) Иные мысли, которых у меня нет и которые я не смог бы выразить словами, я почерпнул из языка. (Карл Краус. “Утверждения и опровержения”)
Приведенные выше изречения являются афоризмами, а приведенные ниже для этого слишком длинны.
Как велико преимущество знатного происхождения! С восемнадцати лет человеку открыты все пути, ему уже не в новинку известность и почет, меж тем как другие если и достигнут таких же наград, то годам к пятидесяти, не раньше: выигрыш в тридцать лет. (Блез Паскаль. “Мысли”) Художник не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля[27]. (Оскар Уайльд. Предисловие к “Портрету Дориана Грея”)
Алекс Фальцон в предисловии к изданию “Афоризмов” Уайльда называет афоризмом изречение не просто краткое, но и остроумное. Он следует современной тенденции, в соответствии с которой для афоризма важнее изящество и блеск – в ущерб истинности утверждения. Естественно, когда речь идет об изречениях или афоризмах, их истинность зависит от намерений автора: афоризм выражает то, что его автор считает правдой и в чем желает убедить читателей. Но в целом авторы изречений или афоризмов не обязательно стремятся казаться остроумными и тем более осмеять существующие воззрения. Скорее они желают привлечь внимание и изменить отношение к проблеме, к которой в настоящий момент общественное мнение относится недостаточно серьезно. Приведем пример изречения Шамфора: “Богаче всех человек бережливый, беднее всех – скряга”[28] (“Максимы и мысли”, I, 145). Острота изречения состоит в том, что в глазах общественного мнения бережливым является человек, который не расточает свои скромные запасы, дабы при помощи бережливости бороться с собственной нуждой. Скряга же – это человек, накапливающий запасы, которые превосходят его нужды. Изречение могло бы показаться противоречащим общественному мнению, если только не считать бережливого человека богатым, потому что он, обладая ресурсами, разумно ими распоряжается, не имея потребностей свыше тех, что может себе позволить. Напротив, скряга, будучи беден духом, полагает, что нуждается в большем, чем смогут ему дать накопляемые запасы. Так становится ясна риторика автора, и изречение не противоречит общественному мнению, а подкрепляет его. Когда же афоризм резко противоречит общественному мнению, так что на первый взгляд кажется ложным и неприемлемым и только после разумного сокращения его гиперболической формы принимается за некую правду, и то с трудом, тогда мы имеем дело с парадоксом. Этимология слова восходит к древнегреческому выражению παρά την δόξαν , которое означает “против общественного мнения”. Следовательно, изначально термин подразумевал утверждение, далекое от убеждений всех прочих, странное, эксцентричное, неожиданное высказывание, и в таком значении мы находим его у Исидора Севильского. Однако мысль о том, что подобное неожиданное утверждение может быть истинным, имеет долгую историю. У Шекспира есть один парадокс, который кажется ложным, но со временем становится истинным. Приведу в качестве примера фрагмент из “Гамлета”:
О. Что разумеет ваша милость? Г. То, что если вы порядочная и хороши собой, вашей порядочности нечего делать с вашей красотою. О. Разве для красоты не лучшая спутница порядочность? Г. О, конечно! И скорей красота стащит порядочность в омут, нежели порядочность исправит красоту. Прежде это считалось парадоксом, а теперь доказано. Я вас любил когда-то[29].
Логические парадоксы занимают особое место, они представляют собой противоречивые утверждения, ни ложность, ни истинность которых невозможно доказать. Таков, например, парадокс лжеца. Но постепенно проявляется их риторический смысл. Приведу определение, данное Р. Баттальей.
Положение, концепт, утверждение, сентенция, реплика, рожденная в беседе нравственного или дидактического характера и противопоставленная распространенному или общепринятому мнению, здравому смыслу и опыту, системе верований, на которые опирается общество, принципам или благоприобретенным знаниям. Часто не является истиной, перерождаясь в простой софизм, высказанный ради красного словца; но за видимой нелогичностью и приводящей в замешательство формулировкой может скрываться объективная реальность, которой суждено восторжествовать против невежества и поверхностного мнения тех, кто бездумно следует мнению большинства.
Итак, афоризм – это утверждение, которое признается верным, несмотря на всю свою остроту, в то время как парадокс изначально должен представляться ложным высказыванием, в котором только по зрелом размышлении обнаруживается то, что его автор считает истиной. Из-за разрыва между общественным мнением и провокационной формой парадокса он неизбежно будет остроумным. История литературы богата афоризмами, но бедна парадоксами. Сочинять афоризмы – дело нехитрое (пословицы и поговорки тоже являются афоризмами: родственников не выбирают; брехливая собака лает, но не кусает), тогда как сочинять парадоксы гораздо сложнее. Много лет тому назад мне довелось изучать творчество одного мастера афоризмов, Питигрилли[30]. Приведу в пример его самые блестящие высказывания. В некоторых из них присутствует правда, выраженная резко, но не идущая в разрез с общественным мнением: Гастроном – это повар с образованием. Грамматика – это сложный инструмент, который помогает выучить языки, но мешает говорить на них. Фрагменты – выход, данный добрым боженькой писателям, которые не в состоянии написать целую книгу. Дипсомания – научный термин столь замечательный, что хочется уйти в запой.
Некоторые афоризмы не столько выражают истину, сколько утверждают этический принцип, правило:
Лучше поцеловать в губы прокаженного, чем пожать руку дураку. Будьте снисходительны к тем, кто вас обидел, так как вы не знаете, что вам заготовили остальные.
Однако именно в сборнике, озаглавленном “Противоракетный словарь”[31], в который он включил максимы, высказывания и афоризмы, принадлежащие ему или другим авторам, Питигрилли, желающий любой ценой сойти за циника и даже открыто признающийся в заимствовании чужих мыслей, предупреждал, насколько опасной может быть игра с афоризмами:
Буду с вами откровенным и признаюсь, что потворствовал хулиганству читателя. Объясню, что я имею в виду: когда на улице случается перепалка или авария, как будто из-под земли возникает некий тип, который старается подначить одну из спорящих сторон, и это, как правило, какой-нибудь автомобилист. Так хулиган спускает пар. Нечто подобное происходит и с книгами: когда у читателя нет собственных мыслей или когда он затрудняется их выразить, он находит красочную, блестящую, точную фразу, влюбляется в нее, берет ее на вооружение, комментирует с восклицательными знаками, в выражениях вроде “отлично!”, “верно!”, как будто он сам всегда так и думал и как будто эта фраза – квинтэссенция его собственных мыслей, его философской системы. Читатель “занимает позицию”, как говорил дуче. И я ему предлагаю способ занять позицию, не забредая в джунгли разной литературы.
В этом смысле афоризм блестяще выражает общее место. Сказать о фисгармонии, что “это фортепьяно, разочаровавшееся в жизни и обратившееся к религии”, – это все равно что повторить истину, которую мы и так знаем: что фисгармония – церковный инструмент. Высказывание “алкоголь убивает живых и сохраняет мертвых” подтверждает лишь то, что нам давно известно об опасности его чрезмерного употребления и об использовании спирта в анатомических музеях. Когда в “Эксперименте Потта”[32] Питигрилли от лица своего персонажа утверждает, что “умная женщина – это аномалия и встречается так же редко, как альбиносы, левши, гермафродиты и шестипалые люди”, он говорит, пусть и с долей остроумия, именно то, что хотел услышать читатель (а возможно, и читательница) в 1929 году. Но, критикуя собственное велеречие, Питигрилли подводит нас к мысли о том, что многие блестящие афоризмы могут быть вывернуты наизнанку, не теряя своей силы. Взглянем на некоторые примеры перевертышей, которые нам предлагает сам Питигрилли в том же “Словаре”.
Многие презирают богатство, но лишь немногие умеют приносить его в дар. Многие умеют приносить богатство в дар, но немногие его презирают. Мы обещаем с опасением и выполняем обещание с надеждой. Мы обещаем с надеждой, а выполняем обещания с опаской. История – это всего лишь приключение свободы. Свобода – это всего лишь приключение истории. Счастье в вещах, а не в нашем вкусе. Счастье в нашем вкусе, а не в вещах.
Кроме того, Питигрилли отобрал изречения разных авторов, противоречащие друг другу, но тем не менее выражающие безусловную истину:
Легче всего обмануться из-за оптимизма. (Поль Эрвье) Недоверие обманывает нас чаще, чем доверие. (Ривароль) Народы были бы счастливы, если бы цари философствовали, а философы управляли государством. (Плутарх) Если я захочу наказать какую-нибудь провинцию, то посажу управлять ею философа. (Фридрих II)
Афоризмы, которые легко перевернуть, я бы назвал способными к мутации. Способный к мутации афоризм – это болезненная склонность к остроумию. Иными словами, автора не заботит тот факт, что противоположное по смыслу изречение может быть не менее справедливо, – настолько ему важно казаться остроумцем. Парадокс – это перевертывание общей перспективы, которое представляет мир неприемлемым, вызывает сопротивление, отторжение, и тем не менее, постаравшись его понять, мы признаем его верным. В итоге парадокс звучит остроумно как раз потому, что мы вынуждены с ним согласиться. Афоризм-перевертыш несет в себе правду очень условную: стоит ему мутировать, как мы обнаруживаем, что верной не является ни одна из предложенных им перспектив; утверждение казалось верным только потому, что оно остроумно. Парадокс вовсе не вариация на тему классического топоса “перевернутого мира”. Это образ чисто механический, он подразумевает мир, где животные разговаривают, а люди рычат, рыбы летают, а птицы плавают, обезьяны служат мессу, а священники лазают по деревьям. Это лишь нагромождение невозможностей без всякой логики, карнавальная игра. Если же мы хотим подняться на ступень выше и перейти к парадоксу, необходимо, чтобы перевертывание следовало определенной логике и было ограничено какой-то частью мира. Перс, приехавший в Париж, описывает Францию, как парижанин описал бы Персию. Эффект парадоксален, потому что обычные вещи рассматриваются с необычного ракурса. Чтобы отличить парадокс от мутировавшего афоризма, достаточно попытаться его перевернуть. Питигрилли цитирует высказывание Тристана Бернара о сионизме, которое было справедливо до образования государства Израиль: “Один еврей просит денег у другого, чтобы отправить третьего в Палестину”. Попробуйте перевернуть это высказывание: ничего не выйдет. Это знак того, что изречение было истинным или, по крайней мере, Бернар хотел, чтобы мы его таковым воспринимали.
А теперь приведу в пример ряд знаменитых высказываний Карла Крауса. Я даже не буду пытаться их извратить, потому что по здравом размышлении это невозможно. Но они истинны вопреки общественному мнению, просто на непривычный манер. Их нельзя перевернуть, чтобы выразить некую противоположную правду:
Скандал начинается, когда полиция решает положить ему конец. Для совершенства ей не хватало лишь недостатка. Невинность – идеал тех, кто любит лишать невинности. Наказания нужны для того, чтобы напугать тех, кто не желает грешить. Дети играют в солдат. Это понятно. Но почему солдаты играют в детей? Есть на карте темная область, откуда посылают в мир исследователей. Врачи легко определяют помешательство: стоит им поместить пациента в психлечебницу, как он тут же проявляет признаки сильнейшего беспокойства.
Естественно, Краус тоже впадает в грех афоризмов-перевертышей, и вот несколько его утверждений, которые можно легко извратить и перевернуть (перевертыши мои): Нет ничего глубже, чем женская поверхностность. Нет ничего более поверхностного, чем глубина женщины. Скорее простят некрасивую ногу, чем некрасивый чулок! Скорее простят некрасивый чулок, чем некрасивую ногу! Некоторые женщины вовсе не красивы, но выглядят красавицами. Некоторые женщины красивы, но красавицами не выглядят. Сверхчеловек – идеал преждевременный, поскольку предполагает существование человека. Человек – идеал преждевременный, поскольку предполагает существование сверхчеловека. Настоящая женщина изменяет ради удовольствия. Другая ищет удовольствия в изменах. Настоящая женщина ищет удовольствия в изменах. Другая изменяет ради удовольствия.
Единственные парадоксы, которые, по всей видимости, мутациям неподвластны, – это парадоксы Станислава Ежи Леца. Вот небольшой список его “непричесанных мыслей”[33]:
Если бы можно было отоспать смерть в рассрочку! Мне снилась действительность. С каким облегчением я проснулся! Сезам откройся – я хочу выйти! Кто знает, что бы открыл Колумб, не попадись ему на пути Америка! Страшнее всего кляп, смазанный медом. Рак краснеет после смерти. Что за достойная подражания деликатность со стороны жертвы! Разрушая памятники, сохраняйте пьедесталы. Всегда могут пригодиться. Овладел наукой – но не оплодотворил ее. Из скромности считал себя графоманом, а был доносчиком. Костры не высветляют тьму. Можно умереть на острове Св. Елены и не будучи Наполеоном. Так тесно прижались друг к другу, что ни для какого чувства не осталось места. Он посыпал себе голову пеплом своих жертв. Снился мне Фрейд. Что бы это могло значить? Общение с карликами деформирует спинной хребет. Совесть у него чистая. Не бывшая в употреблении. Даже в его молчании были грамматические ошибки.
Признаюсь в своей слабости к Лецу, но к настоящему моменту я нашел только один его афоризм, который можно перевернуть:
Поразмысли, прежде чем подумать. Подумай, прежде чем поразмыслить.
А теперь обратимся к Оскару Уайльду. Если принять во внимание бесчисленные афоризмы, рассеянные в его произведениях, мы должны будем признать, что имеем дело с легкомысленным автором, денди, эпатирующим обывателей и не делающим различия между просто афоризмами, афоризмами-перевертышами и парадоксами. Более того, у него хватает дерзости выдавать за остроумные афоризмы утверждения, которые под видом остроты скрывают самые что ни на есть общие места или, по крайней мере, общие места для буржуазии и аристократии викторианской эпохи. Тем не менее эксперимент подобного рода позволит нам увидеть, в какой степени писатель, соль романов, комедий и эссе которого заключается в провокационных афоризмах, является истинным автором блестящих парадоксов. Или же он всего лишь добросовестный коллекционер красивых словечек? Естественно, это чистой воды эксперимент, цель которого вдохновить какого-нибудь студента на написание диплома.
Извольте списочек подлинных парадоксов. Попробуйте-ка их перевернуть (максимум, что выйдет, – это какой-нибудь нонсенс или высказывание, бессмысленное для здравомыслящего человека).
Жизнь – попросту mauvais quart d’heure [34], составленная из мгновений счастья. Эгоизм – это не когда человек живет как хочет, а когда он требует, чтобы другие жили, как он. Более осмотрительно думать дурно обо всех, пока, естественно, не выяснится, что кто-то хорош, но сегодня для этого понадобятся бесконечные исследования. (Это утверждение можно перевернуть. Более осмотрительно думать хорошо обо всех, пока, естественно, не выяснится, что кто-то плох, но сегодня для этого понадобятся бесконечные исследования. Но так оно становится ложным.) Уроды и дураки живут в свое удовольствие. Они развалились в партере и пялятся на сцену. Если они и не испытали вкус победы, то им, по крайней мере, неведомо поражение. Чувствительная особа – это тот, кто непременно будет отдавливать другим мозоли, если сам от них страдает. Все, кто не способен учиться, уже занялись обучением. Каждый раз, когда со мной согласны, мне кажется, что я ошибаюсь. Сегодня у каждого великого человека есть ученики, а его биографию обычно пишет Иуда. Я могу устоять против всего, кроме соблазна. Ложь – это правда других людей. Единственный наш долг перед историей – это постоянно ее переписывать. Вера не становится истиной только потому, что кто-то за нее умирает. Родственники – скучнейший народ, они не имеют ни малейшего понятия о том, как надо жить, и никак не могут догадаться, когда им следует умереть.
Однако есть огромное количество изречений, принадлежащих Уайльду, которые, очевидно, легко изменить (перевертыши, естественно, мои): |
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 358. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |