
Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Власть и связанные с ней понятияС властью*связана целая смысловая группа парных сопоставлений: власть и — мощь (могущество), влияние, господство, авторитет, убеждение, принуждение (насилие). И не только. Итало-американский политолог Джованни Сартори (род. 1924) утверждает: власть — это семантическая (т.е. смысловая) головоломка. В первую очередь под властью подразумевают высшую государственную власть, что отражено в смысловой стороне многих языков нашей планеты. По-французски власть — le pouvoir — это еще и синоним центрального правительства; по-английски — the power — и держава, государство со всей его мощью; по-немецки— die Gewalt— кроме собственно власти, также мощь либо насилие. В нашем родном русском языке власть зачастую оказывается синонимом начальства, а в множественном числе (власти) обозначает властные органы государства. На чешском слово vlast — родина, отечество, политическая власть как таковая именуется тос, равно как и мощь, а правительство — vlada. Следует помнить и то, что довольно популярное словосочетание «власти предержащие» в качестве верховного правления государства заимствовано из Библии (в каноническом русском переводе) из послания апостола Павла к Римлянам, где и содержится обоснование божественного происхождения, высшей религиозной санкции на политическую власть: «Всяка душа властем предержащим да повинуется. Несть бо власть аще не от Бога» (Рим. 13:1). Томас Гоббс, определяя власть через могущество*,писал так: «Власть есть не что иное, как избыток могущества одного человека над другим», а Спиноза добавил: могущество человека возрастает тогда, когда он использует свой разум либо объединяется с другими людьми, и в этом смысле человек — «политическое животное». 
Показательно, что почти все мыслители прошлого, рассуждая о власти, не дают ей четкого определения, хотя и признают, что власть — фокус политики, а также науки об этой сфере деятельности человека. Последнее — едва ли не единственное, в чем они согласны друг с другом. Тот же Макиавелли, очарованный игрой власти, склонен, говоря о ней, скорее прибегать к ярким эпитетам и сравнениям, чем искать более или менее строгие дефиниции. Только на современном этапе развития политической науки появляются разнообразные трактовки именно самого понятия (концепта) власти. Для одних теоретиков власть есть влияние*особого рода, для других — способность к достижению конкретных целей (в т.ч. в распределении материальных и иных ресурсов), для третьих — возможность использования неких средств, для четвертых — специфическое отношение (приказание/подчинение или еще какое-то иное) между управителем и управляемым и т.д. Отличия в трактовке понятия связаны не только с многозначностью самой власти, но и с разными способами употребления данного слова. С одной стороны, оно позволяет слагать метафоры обыденной речи (оказаться во власти волн, преодолеть власть нищеты, вырваться из-под власти любовных чар и т.п.).
С другой стороны, власть выражает особое политическое понятие, даже фиксирует довольно строгую научную категорию политологии. Однако приблизительность и небрежность в обращении со словом власть и связанными с ним по содержанию терминами господство, влияние, авторитет и подобными им создают немало проблем для практической политики и для политической науки.
Вместе с тем при всей сумятице, которую вносит в наше мышление, а с ним и в политическое поведение смешение значений, нельзя отрицать важность сущностной близости, хотя и не идентичности, тех явлений, которые относятся к смысловому «гнезду» понятия власти. Мощь*и силу*объединяют с властью особые способности к какому-то делу, свершению. Богатство, нормы, права, полномочия (даже навыки, обычаи) составляют собой некие проявления власти, но осуществляемой по-иному и в других отношениях. Наконец, влияние, авторитет, господство — неотъемлемые специфические категории (и в этом смысле продолжения) власти со своими особыми инструментами, условиями осуществления и т.п.
Содержание власти Важно различать виды власти — политическую и неполитическую. Для отличия такой «несовершенной», как бы сказал Аристотель, власти вне политики от вполне «совершенной» ученые пользуются именно понятием политической власти,как имеющей только собственный смысл, источники и ресурсы, а также образующей особого рода властные отношения. Та или иная политика всегда обнаруживается в неполитических аспектах единой человеческой реальности. Если мы в состоянии выделить экономическую политику, то у нее непременно найдется и свое средство всеобщей связи, делающее возможным и эффективным выполнение обязательств, взятых на себя участниками экономических отношений. Раз так, то можно говорить об особой власти в сфере экономики, а значит, и об авторитете, полномочиях*и правах экономических субъектов. Для определения сущности власти как таковой можно было бы ограничиться указанием на то, что она выступает средством всеобщей связи при осуществлении целедостижения, символическим посредником,обеспечивающим выполнение взаимных обязательств (в кратком истолковании Толкотта Парсонса). Однако такое указание вряд ли достаточно, ибо в качестве подобного средства могут выступать самые различные явления — от грубого насилия до тонких дипломатических ухищрений. На протяжении всей истории человечества власть одних людей над другими принимала порой самые причудливые формы. В древности физическое превосходство рождало власть: кто сильнее, тот и правит. Постепенно по мере развития цивилизации власть стала наследоваться. Король — символ и воплощение власти, передаваемой по наследству. В более поздние времена в символ власти превратился капитал — кто обладает им, у того власть над промышленностью, т.е. и над другими людьми. Итак, традиционные источникивласти — насилие, наследство, богатство. Во второй половине XX в. все чаще начали писать о знании как еще об одном, специфически современном, источнике власти. Правда, надо отметить, что уже с античности повелители понимали, что образование помогает подчинить индивида коллективу, а около 400 лет назад английский философ и государственный деятель Фрэнсис Бэкон (1561-1626) рассматривал знание в качестве силы.
деньги. Но в век информатики таким энергоносителем становится знание. Сегодня можно наблюдать формирование новой линии раздела в обществе — на тех, кто обладает информацией, и тех, кто выполняет свои функции вслепую. Власть информированного класса будет опираться не на собственность, на землю или капитал, а на знание. Другой известный автор, работающий в сфере политической теории и прогнозов, Олеин Тоффлер (род. 1928) так прояснял ситуацию с современными источниками власти: в конце XX в. происходит перераспределение власти, затрагивающее не только ее системы, но и глубинные основания. Теперь факторы власти — по-прежнему насилие и богатство, но главным становится знание, ибо именно оно лежит в основе по-современному понимаемых силы и богатства. Знание имеет двойную структуру: образование как приобретение технической или научной, практической или теоретической компетенции; информация как постоянное совершенствование политической и экономической функций личности, причем информацию можно преобразовать в действенную пропаганду каких-либо властных тактик. Кстати, указанным источникам соответствует и определенный набор способов доступак политической власти: силовой (революция, переворот), наследование (династия), выборы.
Иной подход ввел в современную науку немецкий социолог и теоретик политики Макс Вебер, который определял власть как отношение,предполагающее согласие обеих сторон — управителя и управляемого — в нем участвовать. Анализ власти (точнее, господства) Вебера касался не только политических институтов (государства, партий, профсоюзов), но и корпораций вроде Церкви, предприятий. Он рассмотрел власть как действие, направленное по отношению к чему-либо или к кому-либо. Для проявления власти нужно, таким образом, чтобы в наличии было два человека или две группы людей — субъект и объект. Собственно говоря, нынешние кратология и политология в целом по преимуществу исходят из веберовских концептуальных тезисов. Вебер полагал, что власть — это возможность теми или иными особыми способами добиться подчинения со стороны определенной группы людей, однако он не имел в виду некую вероятность (шанс) применить могущество или влияние ради подчинения: власть — это самые разные мотивы послушания: от обычной привычки до рациональных (рассудочных) соображений. Значит, по Веберу, всякое подлинное отношение господства содержит интерес, внешний или внутренний, к подчинению (см. «Экономика и общество»). Формула власти Вебера выглядит следующим образом: власть состоит в способности индивида А добиться от индивида Б соответствующих воле А поведения или воздержания от действий, с которыми Б в противном случае не согласился бы. При более внимательном рассмотрении этой формулы власти легко заметить: недостаточно, чтобы объект Б вообще как-нибудь реагировал, а нужно его поведение в соответствии с волей А. Очевидно, что не всякие отношения означают власть. Кроме того, в данной формуле сравниваются реальный факт и гипотеза («в противном случае делать бы не стал»), но мы не знаем этого точно — ведь можно представить себе ситуацию, когда воли А и Б совпадают или Б случайно поведет себя так, как хотелось бы А. Значит, Вебер подразумевал, с одной стороны, навязывание воли и подчинение — с другой.
Иными словами, подразумевается, что в процессе осуществления власти интересы одного субъекта приносятся в жертву интересам другого. Понятно, что тем самым усиливается конфликтный аспект власти. Несмотря на всю привлекательность этого подхода, он требует многих дополнительных уточнений, существенно затрудняющих фиксацию содержания власти.
К власти вообще очень трудно подойти объективно, она ускользает, видоизменяется, «играет» с наблюдателем. Стоит ли удивляться, что чуть ли не каждый известный политолог попытался сказать о власти что-то свое?
Одни отожествляют власть с теми ресурсами, которые используются для связывания и опосредования целенаправленных действий и обязательств (отсроченных действий) в политике. При таком подходе власть предстает как своего рода мощь, сила, воля, обаяние или просто как некий необъяснимый, чудесный дар, именуемый загадочным словом харизма(гр. kharisma — божественная милость, дар: от kharis — прелесть, удовольствие). Это могут быть и возможности, порожденные иными, чем политика, аспектами человеческого существования, которые превращены (конвертированы) во власть — богатство из экономической сферы, влияние — из социальной, нормы и образцы — из культурной. Подобной властью как ресурсом люди обладают (власть и владение — слова однокоренные), утрачивают его, передают, получают и делят. Для других политологов понятнее и ближе сведение власти к устойчивым отношениям между людьми. Они связывают власть с приказанием/подчинением или зависимостью, обезличенной волей обстоятельств, а то и с взаимозависимостью. Взаимозависимость и вообще отношения двух или более переменных — это функция, и в таком качестве власть уже не может быть присвоена одним лишь лицом. Более того, функция начинает преобладать над людьми, делая их своего рода заложниками структурных отношений, предзаданных традициями и навыками политического взаимодействия. Власть как бы отчуждается от конкретного лица и становится «личиной», маской со своей ролью и сюжетной линией, которые приходится разыгрывать. Есть, наконец, политики и политологи, для которых власть предстает в виде открытия грядущих возможностей (потенций), т.е. как средство политического творчества, проявляющегося в решении проблем создания новых ресурсов и функций. Такое творчество немыслимо без обсуждения и согласования альтернатив. Над ресурсами и над функциями надстраивается содержательная форма связи (коммуникация), порождающая все более современные, соответствующие обновлению условий смыслы человеческой деятельности, соотнесение целей и средств, а главное — выдвигающая глубинным основанием власти эффективность целедостижения. Все эти различные трактовки феномена власти не исключают друг друга — они фиксируют разные и совершенно реальные ее аспекты. В нынешней политологической литературе нередко выделяют как минимум три таких измерения. В соответствии с директивнымаспектом власть понимается как господство, обеспечивающее выполнение указания верховного властителя, будь то человек или институт. Определенная таким образом власть — именно та, что осуществляет свою волю путем введения в дело разных наличных средств, ресурсов разного рода. Очевидно, что это очень серьезная характеристика власти. Важно и функциональноеизмерение, т.е. понимание власти как способности и умения реализовать функцию общественного управления*на практике. Данная функциональность обусловлена тем, что политическая власть представляет собой отношение между теми или иными субъектами и объектами, политическими акторами (отдельные граждане, их организованные группы, партии, государства и т.д.). Коммуникативныйаспект власти обусловлен тем, что отправление власти идет путем общения, с использованием известного языка, понятного обеим сторонам данного общественного отношения. Все три перечисленные аспекты власти — совершенно реальны, но все же не совсем равнозначны. Директивная составляющая, т.е. власть как принуждение к исполнению воли приказывающего, как правило, считается основной. Это, по сути, и отражено в распространенных в политологии определениях власти.
Вебер постарался и классифицировать власть, сформулировав ее три идеальных типа. Первый из них он обозначил как индивидуализированнуювласть, которая обычно осуществляется одним человеком и во многом зависит от его личных качеств. Из истории известно, что древнегреческие герои (тираны) добивались верховного статуса благодаря своим подвигам. При этом их смелость, умение повести за собой людей и соотносить свои силы с противником играли решающую роль. Макиавелли добавил и другие качества, необходимые властелину, — ловкость, изворотливость, способность добиваться цели любым путем, независимо от моральных ограничений. Однако у власти данного типа есть серьезные недостатки — прерывистый характер и отсутствие четких правовых границ. В случае смерти правителя, твердо и общепризнанно воплощающего собой власть, как правило, наступает период политического и иного кризиса (смуты), поскольку такое руководство трудно воспроизвести его наследнику.
Еще один идеальный тип — это институционализированнаявласть. Политические мыслители долго размышляли о том, как сделать отправление власти непрерывным. Именно этой цели служат различные политические институты и государственные учреждения. Но если источник власти находится не в людях, а в принципах или институтах, то последние легко ограничить (поэтому, например, появились идеи естественных прав человека), а также выработать правила и механизмы передачи власти чаще всего тремя основными способами: по наследству (от родителя к потомку либо родственнику); по правовым установлениям (в т.ч. назначение в порядке иерархической очередности); по конституции (через механизм выборов). Следовательно, институционализированная власть по существу и означает современное государство.
Абстрактная власть институтов воплощается в конкретных людях. Итак, третий идеальный тип власти — персонифицированная.В последнее время наблюдается усиление личностного фактора во властвовании. В немалой степени это связано с приходом эры телевидения и позже — Интернета. Раньше отношения между управителями и управляемыми имели преимущественно безличностный характер. Многие даже не знали, как выглядит их правитель. С развитием средств массовой коммуникации политики вошли в частную жизнь граждан; их взгляды порой лучше знакомы людям, чем мнения коллег или соседей. Дистанция между властью и массами сократилась, власти предержащие перестали быть богами и выступили в образе живых людей, однако наделенных соотечественниками особыми полномочиями и функциям. Возникло явление, получившее название «государство-спектакль». Ореол властвования оказался подверженным эрозии.
ФОРМЫ И КАТЕГОРИИ ВЛАСТИ Власть как принуждение Почти все определения власти так или иначе связывают ее отправление с принуждением*, приказанием, внешним волевым усилием по отношению к подвластным. В основном решения о поведении, таким образом, принимаются против их желания, поскольку общество видится как механическая солидарность. Преобладает режим команда/исполнение. Понятие подчинения присутствует в явном или скрытом виде фактически во всех теоретических концепциях власти. Уже первая из них — Платона — рассматривает власть в понятиях приказания начать действие и его исполнения. Тот же подход у Аристотеля, Гоббса, Гегеля и других мыслителей прошлого и настоящего. Подчинение всегда предполагает отношения неравноправные, асимметричные, когда одна из сторон доминирует.
И наоборот, ученые, исходящие из усложненного коммуникативного истолкования власти, склонны твердо разграничивать применение силы (англ. force) и принуждающего насилия (англ. coercive violence) от собственно власти. Например, американский политолог, специализирующийся на новых аспектах содержания научных понятий, Теренс Болл (род. 1944) считает всякое насилие лишь псевдовластью, фактическим признанием псевдовластвующим субъектом того, что он не в состоянии ни осуществлять самостоятельное руководство, ни добиваться своих целей в условиях конструктивного сотрудничества с другими. С несколько односторонним подходом Болла, который не учитывает иных аспектов власти, кроме коммуникативного, по сути дела спорил выдающийся теоретик Парсопс.
Разрешить проблему позволяет рассмотрение власти как связывающего действия и обязательства людей посредника,который может представлять ее в разном виде. Заключены ли в столкновении силы с силой предпосылки политического взаимодействия человека с человеком? Да, в той же мере, в какой прямой натуральный обмен (бартер) содержит в себе первоначала отношений экономических. Подобные взаимодействия, однако, связаны с конкретной ситуацией, а силовое принуждение или обмен чаще всего бывают однократными. Устойчивость и постоянство, столь необходимые и политике, и экономике, достигаются тогда, когда принуждение и обмен превращаются в обобщенный символ. Такими символами становятся в политике ресурсы насилия и признаваемое в данном сообществе право их использовать («монополия легитимного физического насилия», которую Вебер признавал за государством), а в экономике — некий универсальный товар, например золото. Кстати, сравнения между политикой и экономикой для прояснения властных отношений очень полезны и убедительны.
На придании принуждающему насилию символического смысла усложнение интерпретации власти не завершается. Подобно тому как простое накопление и расходование золота не создают эффективного денежного обращения, обычное аккумулирование ресурсов, прав на насилие и их растрачивание все еще имеют непосредственный характер и осуществляются в сравнительно ограниченных масштабах. В довольно примитивных условиях традиционного общества требуется сосредоточение золота и ресурсов насилия (например, дружины) тогда и в том месте (локусе), где должны быть реализованы властные или торговые отношения. С развитием человеческих сообществ происходит дальней
Право использовать власть, какие-то негативные санкции по принципу бартера или даже принуждение, чтобы закрепить главенство одного решения над другим, Парсонс квалифицировал как авторитет. Еще более высокая сложность экономической и политической систем — использование их функциональных возможностей: операции с кредитно-долговыми и другими подобными отношениями в экономике, с законами и административными установлениями в политике. Здесь и возникает тот наивысший на сегодня коммуникативный уровень взаимодействия (с обязательным обсуждением альтернатив), когда насилие как таковое уже не нужно. Добровольность становится не вынужденным, а действительным основанием властвования, которое отныне опирается на знание публично согласованных целей и способов их достижения, а также на устойчивые принципы и процедуры действий по реализации соответствующих обязательств политических акторов.
Однако такие сложно устроенные системы, рассчитанные на хорошие знания, информированность и значительное взаимное доверие граждан, могут давать сбои, если заметная часть общества оказывается не в состоянии действовать адекватно уровню требований. Тогда возможен спуск от достигнутого все ниже и ниже. В итоге можно прийти к тому качественному положению, когда только сила и обладание товаром остаются единственной надеждой власти. В политике это равноценно деградации политической системы до состояния гражданской войны или «войны всех против всех» (Гоббс); в экономике — крушению не только кредита, но и денежного обращения. В этом смысле прав Болл, утверждая, что использование ничем не связанной силы равнозначно саморазрушению власти. Впрочем, данная закономерность, вопреки мнению Болла, не безусловна по своему характеру. Применение политически и юридически регламентированного (упорядоченного) насилия вроде временного ареста, депортации (высылки), тюремного заключения может иметь оздоровительный эффект, подобно банкротству и распродаже имущества в экономике.
При учете трех базовых аспектов власти (они же — условные степени ее усложнения) трактовка этого ключевого феномена политики оказывается достаточно гибкой. На самом низком, исходном, уровне директивное управление может быть истолковано как простое распределение ресурсов насилия и прав на их использование. Развитие функционального аспекта власти ведет к разграничению полномочий. При коммуникативном понимании власть оборачивается сотрудничеством (т.е. знанием и доверием) при распределении ресурсов (не только силовых) и при согласовании специализированных политических функций.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2018-04-11; просмотров: 463. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |


 Джон Гэлбрейт (род. 1908), выдающийся американский социолог, экономист и политический мыслитель, писал в книге «Новое индустриальное общество» (1967), что энергоносителем индустриального общества были
Джон Гэлбрейт (род. 1908), выдающийся американский социолог, экономист и политический мыслитель, писал в книге «Новое индустриальное общество» (1967), что энергоносителем индустриального общества были Множество попыток объяснить сущностьвласти так или иначе сводились к двум основным тезисам: 1) признанию наличия некоей абстрактной власти, оказывающейся самотождественной; 2) пониманию власти как какого-то качества или силы, которая может находиться в распоряжении ее временных хранителей, быть переданной по наследству, захваченной, узурпированной и т.д.
Множество попыток объяснить сущностьвласти так или иначе сводились к двум основным тезисам: 1) признанию наличия некоей абстрактной власти, оказывающейся самотождественной; 2) пониманию власти как какого-то качества или силы, которая может находиться в распоряжении ее временных хранителей, быть переданной по наследству, захваченной, узурпированной и т.д. Автор многочисленных работ, среди которых: «Протестантская этика и дух капитализма» (1904-1905); «Объективность» социально-научного и социально-политического познания» (1904); «Критические исследования в области логики наук о культуре» (1906); «Хозяйственная этика мировых религий» (1916-1919); «Политика как призвание и профессия» (1919); «Наука как призвание и профессия» (1920); «Экономика и общество» (1924, иосм. публ.) и т.д. Творческий потенциал трудов Вебера соизмерим с наследием других великих социальных мыслителей: его называют «великим буржуазным антиподом Карла Маркса».
Вклад в развитие политической мысли.Научные интересы Вебера — это широкий круг вопросов по социологической теории и методологии социального познания, истории капитализма и факторам генезиса западной цивилизации, религии, праву, экономике и т.д. Размышления ученого о природе, мотивах и типах господства стали классикой политической теории.
В отношении методологии социального знания («наук о культуре», например истории) — как именно индивидуальные суждения превращаются в объективно-научные, общезначимые — Вебер подчеркивал: социальная наука должна быть свободна от оценочных суждений в соответствии с принципами подхода к любой дисциплине естествознания. Однако это требование не означает переноса естественнонаучной методологии на исследование общества и деятельности человека из-за их специфики и отказа ученого — как частного лица — от своего права на нравственную (и политическую) позицию, собственные оценки. Индивидуальное суждение становится объективным при его «отнесении к ценности», значимой для всех познающих субъектов в данную историческую эпоху. Ценность в таком случае — свойственное эпохе направление «интереса», т.е. она не может быть надысторической, а значит, абсолютной истиной на века в силу социально-исторической детерминированности знания.
Ориентация на ценность— основа для образования научных понятий. Исходя из этого принципа, Вебер предложил методологический инструмент познания — «идеальный тип» в качестве теоретической схемы для выражения «интереса эпохи». При мысленном конструировании идеального типа (с учетом его утопических, даже «чуждых миру» свойств) нужно сознательно абстрагироваться от всей полноты реальности и выделять только некоторые се аспекты. Для Вебера идеальный тип — лишь средство познания, выполняющее классификационные, терминологические и т.п. функции. Для историка идеальный тип нацелен на раскрытие «генетических связей» между имевшими место явлениями и отличается по сути и способам создания от «чистого» идеального типа в социологии с его более общим характером.
Категория действия — одна из центральных для социополитической теории Вебера. Действием он называет любое человеческое поведение (внешнее или внутреннее деяние, бездеятельность или переживание испытания), когда действующий связывает с ним некий субъективный смысл (мотив). В свою очередь, основным субъектом (актором) социального действия, для которого характерны субъективная мотивация и «ориентация на других», выступает отдельный индивид. Изучения действий групп людей (коллективностей) Вебер оставлял психологам, считая, что поведение индивида в массе часто подражательно, не субъективно, значит, и не социально.
Вебер выделял четыре вида социальных действий: 1) целерациональное — ориентированное на осознаваемую человеком цель, причем выбор средств для ее достижения осуществляется им в соответствии с критерием успеха; 2) ценностно-рациональное — поведение сознательно организовано согласно конкретной системе ценностей, не связанных с оценкой успешности; 3) аффективное, которое определено «через актуальные аффекты и чувства», т.е. в основе его — эмоциональные побуждения; 4) традиционное, обусловленное привычкой. Образцовым (идеальным типом) для прочих видов действий, позволяющим классифицировать многообразие человеческого поведения, является целерациональное. Данный выбор неслучаен: Вебер считал рационализацию социального действия («замену внутренней приверженности привычным нравам и обычаям планомерным приспособлением к соображениям интереса») всемирно-исторической тенденцией, распространившейся с Запада на неевропейские цивилизации. Радикальной рационализации как сущностной черте современности подвергаются все основные сферы общества: хозяйственная деятельность, управление в экономике и политике, образ мышления, повседневная жизнь и т.д. Убедительное проявление этого процесса — рост социального значения науки.
Исходя из рациональности, Вебер проанализировал современное общество, противопоставив идеальные типы «традиционного» и «капиталистического» (индустриального) обществ, которые различаются по форме собственности, преобладающим технологиям, рынку рабочей силы, способам экономического распределения, природе законов, распространенным мотивациям. В традиционно-аграрном обществе: собственность привязана к наследственному социальному статусу; почти нет механизации работ; законы имеют частный характер, т.е. неодинаково применяются к разным социальным группам; преобладающие мотивации сосредоточиваются вокруг удовлетворения нужд на привычном, фиксированном уровне. Напротив, в капиталистическом обществе: частная собственность на все средства производства и их концентрация находятся под контролем предпринимателей; механизация труда является ведущей технологией производства, а его критерии — эффективность, производительность, рациональность в организации; труд — это товар на открытом рынке, свободно перемещающийся между отраслями и регионами в соответствии со спросом; рынок выступает в качестве основы распределения и потребления, а также не ограничен слабым развитием средств платежа, транспортировки товаров и прочими барьерами (т.е. может их преодолевать самостоятельно либо с помощью государства); законы универсальны (отсюда принцип равенства граждан перед законом) и ясно прописаны; конечная мотивация экономического поведения — неограниченное приобретательство.
Показательно, что Вебер создал идеальный тип именно современного капиталистического общества, связанного корнями с западной — и никакой иной — культурой. Такой подход открыл возможность для сравнительных исследований; позднее он рассматривал специфику социокультурных (включая духовные) оснований западного капитализма в сравнении с историческим своеобразием незападных цивилизаций (Восток, в т.ч. Россия). Лишь таким образом стало возможным выявление уникальных составляющих религиозно-хозяйственной этики Запада. Сравнительный анализ привел Вебера к выводу, что цивилизационные отличия не могут быть чисто экономическими, а определены социально-историческими и культурно-историческими условиями. Именно в данной связи возникло понятие «дух капитализма» — этические (преимущественно протестантские) нормы, реализующиеся в человеческом поведении как «этос», регулирующий весь уклад жизни его носителя, как «строй мышления», находящий свою наиболее адекватную форму в капиталистическом предприятии.
Вебер считал, что современный ему мир все больше оказывается в «железной клетке» расчета, а общественной жизни угрожает бюрократизация, понятая им как результат вовлечения масс в политику, сопровождающегося появлением множества общественных организаций, рационализация деятельности которых и имеет следствием бюрократизацию. Такая ситуация таит в себе опасность деструктивной для рационально-легального порядка реакции в виде эмоционально возбужденных массовых религиозных и политических движений. Вебер также указывал на необходимость развития т.н. плебисцитарной демократии, позволяющей народу избирать харизматических лидеров. По его мнению, это компенсировало бы недостаток легитимности (народного признания) власти в парламентских республиках.
Эти и другие концепции Вебера оказались очень продуктивными для исследования политики и решения все новых вопросов политической теории на уровне задач XX в.
Автор многочисленных работ, среди которых: «Протестантская этика и дух капитализма» (1904-1905); «Объективность» социально-научного и социально-политического познания» (1904); «Критические исследования в области логики наук о культуре» (1906); «Хозяйственная этика мировых религий» (1916-1919); «Политика как призвание и профессия» (1919); «Наука как призвание и профессия» (1920); «Экономика и общество» (1924, иосм. публ.) и т.д. Творческий потенциал трудов Вебера соизмерим с наследием других великих социальных мыслителей: его называют «великим буржуазным антиподом Карла Маркса».
Вклад в развитие политической мысли.Научные интересы Вебера — это широкий круг вопросов по социологической теории и методологии социального познания, истории капитализма и факторам генезиса западной цивилизации, религии, праву, экономике и т.д. Размышления ученого о природе, мотивах и типах господства стали классикой политической теории.
В отношении методологии социального знания («наук о культуре», например истории) — как именно индивидуальные суждения превращаются в объективно-научные, общезначимые — Вебер подчеркивал: социальная наука должна быть свободна от оценочных суждений в соответствии с принципами подхода к любой дисциплине естествознания. Однако это требование не означает переноса естественнонаучной методологии на исследование общества и деятельности человека из-за их специфики и отказа ученого — как частного лица — от своего права на нравственную (и политическую) позицию, собственные оценки. Индивидуальное суждение становится объективным при его «отнесении к ценности», значимой для всех познающих субъектов в данную историческую эпоху. Ценность в таком случае — свойственное эпохе направление «интереса», т.е. она не может быть надысторической, а значит, абсолютной истиной на века в силу социально-исторической детерминированности знания.
Ориентация на ценность— основа для образования научных понятий. Исходя из этого принципа, Вебер предложил методологический инструмент познания — «идеальный тип» в качестве теоретической схемы для выражения «интереса эпохи». При мысленном конструировании идеального типа (с учетом его утопических, даже «чуждых миру» свойств) нужно сознательно абстрагироваться от всей полноты реальности и выделять только некоторые се аспекты. Для Вебера идеальный тип — лишь средство познания, выполняющее классификационные, терминологические и т.п. функции. Для историка идеальный тип нацелен на раскрытие «генетических связей» между имевшими место явлениями и отличается по сути и способам создания от «чистого» идеального типа в социологии с его более общим характером.
Категория действия — одна из центральных для социополитической теории Вебера. Действием он называет любое человеческое поведение (внешнее или внутреннее деяние, бездеятельность или переживание испытания), когда действующий связывает с ним некий субъективный смысл (мотив). В свою очередь, основным субъектом (актором) социального действия, для которого характерны субъективная мотивация и «ориентация на других», выступает отдельный индивид. Изучения действий групп людей (коллективностей) Вебер оставлял психологам, считая, что поведение индивида в массе часто подражательно, не субъективно, значит, и не социально.
Вебер выделял четыре вида социальных действий: 1) целерациональное — ориентированное на осознаваемую человеком цель, причем выбор средств для ее достижения осуществляется им в соответствии с критерием успеха; 2) ценностно-рациональное — поведение сознательно организовано согласно конкретной системе ценностей, не связанных с оценкой успешности; 3) аффективное, которое определено «через актуальные аффекты и чувства», т.е. в основе его — эмоциональные побуждения; 4) традиционное, обусловленное привычкой. Образцовым (идеальным типом) для прочих видов действий, позволяющим классифицировать многообразие человеческого поведения, является целерациональное. Данный выбор неслучаен: Вебер считал рационализацию социального действия («замену внутренней приверженности привычным нравам и обычаям планомерным приспособлением к соображениям интереса») всемирно-исторической тенденцией, распространившейся с Запада на неевропейские цивилизации. Радикальной рационализации как сущностной черте современности подвергаются все основные сферы общества: хозяйственная деятельность, управление в экономике и политике, образ мышления, повседневная жизнь и т.д. Убедительное проявление этого процесса — рост социального значения науки.
Исходя из рациональности, Вебер проанализировал современное общество, противопоставив идеальные типы «традиционного» и «капиталистического» (индустриального) обществ, которые различаются по форме собственности, преобладающим технологиям, рынку рабочей силы, способам экономического распределения, природе законов, распространенным мотивациям. В традиционно-аграрном обществе: собственность привязана к наследственному социальному статусу; почти нет механизации работ; законы имеют частный характер, т.е. неодинаково применяются к разным социальным группам; преобладающие мотивации сосредоточиваются вокруг удовлетворения нужд на привычном, фиксированном уровне. Напротив, в капиталистическом обществе: частная собственность на все средства производства и их концентрация находятся под контролем предпринимателей; механизация труда является ведущей технологией производства, а его критерии — эффективность, производительность, рациональность в организации; труд — это товар на открытом рынке, свободно перемещающийся между отраслями и регионами в соответствии со спросом; рынок выступает в качестве основы распределения и потребления, а также не ограничен слабым развитием средств платежа, транспортировки товаров и прочими барьерами (т.е. может их преодолевать самостоятельно либо с помощью государства); законы универсальны (отсюда принцип равенства граждан перед законом) и ясно прописаны; конечная мотивация экономического поведения — неограниченное приобретательство.
Показательно, что Вебер создал идеальный тип именно современного капиталистического общества, связанного корнями с западной — и никакой иной — культурой. Такой подход открыл возможность для сравнительных исследований; позднее он рассматривал специфику социокультурных (включая духовные) оснований западного капитализма в сравнении с историческим своеобразием незападных цивилизаций (Восток, в т.ч. Россия). Лишь таким образом стало возможным выявление уникальных составляющих религиозно-хозяйственной этики Запада. Сравнительный анализ привел Вебера к выводу, что цивилизационные отличия не могут быть чисто экономическими, а определены социально-историческими и культурно-историческими условиями. Именно в данной связи возникло понятие «дух капитализма» — этические (преимущественно протестантские) нормы, реализующиеся в человеческом поведении как «этос», регулирующий весь уклад жизни его носителя, как «строй мышления», находящий свою наиболее адекватную форму в капиталистическом предприятии.
Вебер считал, что современный ему мир все больше оказывается в «железной клетке» расчета, а общественной жизни угрожает бюрократизация, понятая им как результат вовлечения масс в политику, сопровождающегося появлением множества общественных организаций, рационализация деятельности которых и имеет следствием бюрократизацию. Такая ситуация таит в себе опасность деструктивной для рационально-легального порядка реакции в виде эмоционально возбужденных массовых религиозных и политических движений. Вебер также указывал на необходимость развития т.н. плебисцитарной демократии, позволяющей народу избирать харизматических лидеров. По его мнению, это компенсировало бы недостаток легитимности (народного признания) власти в парламентских республиках.
Эти и другие концепции Вебера оказались очень продуктивными для исследования политики и решения все новых вопросов политической теории на уровне задач XX в.

 Фокусирование внимания на директивном аспекте власти вполне понятно: оно удобно для создания простых моделей властных отношений, ибо позволяет представить их в как бы в очищенном, чуть ли не в первобытном виде. В этом случае, однако, для политолога существует опасность увлечься теоретически и политически усеченными трактовками власти, которые нередко сводят ее к господству или даже незамысловато отождествляют с принуждающим насилием*.
Фокусирование внимания на директивном аспекте власти вполне понятно: оно удобно для создания простых моделей властных отношений, ибо позволяет представить их в как бы в очищенном, чуть ли не в первобытном виде. В этом случае, однако, для политолога существует опасность увлечься теоретически и политически усеченными трактовками власти, которые нередко сводят ее к господству или даже незамысловато отождествляют с принуждающим насилием*.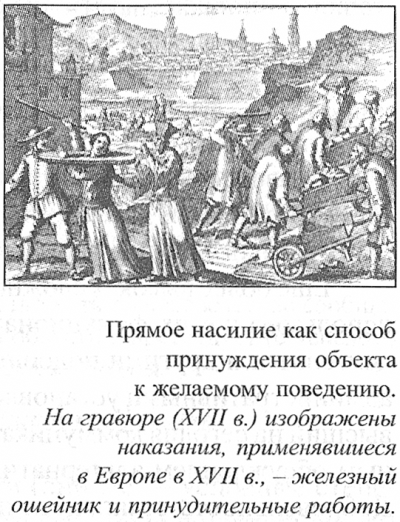 Власть, по Парсонсу, понимается как аналогичный деньгам символический посредник, циркулирующий внутри политической системы, но способный перемещаться оттуда во все три соседние функциональные субсистемы общества — экономическую («конвертируясь» в те самые деньги), интегративную (совокупность социальных общностей с посредником в виде влияния) и строеподдерживающую (культурную с посредником в виде ценностей). Тем самым власть осмысливается как способность обеспечивать выполнение связывающих обязательств элементами политической системы, когда эти обязательства признаны соответствующими коллективным целям, а на случай неповиновения кого бы то ни было предусмотрено принуждение. В соответствии с определением Парсонса сделать возможным исполнение некоего желания даже угрозой превосходящей силы не означает использовать власть. Способность добиться послушания, чтобы ее назвать властью, должна быть обобщенной, а не одной лишь функцией какого-то единичного воздействия.
Власть, по Парсонсу, понимается как аналогичный деньгам символический посредник, циркулирующий внутри политической системы, но способный перемещаться оттуда во все три соседние функциональные субсистемы общества — экономическую («конвертируясь» в те самые деньги), интегративную (совокупность социальных общностей с посредником в виде влияния) и строеподдерживающую (культурную с посредником в виде ценностей). Тем самым власть осмысливается как способность обеспечивать выполнение связывающих обязательств элементами политической системы, когда эти обязательства признаны соответствующими коллективным целям, а на случай неповиновения кого бы то ни было предусмотрено принуждение. В соответствии с определением Парсонса сделать возможным исполнение некоего желания даже угрозой превосходящей силы не означает использовать власть. Способность добиться послушания, чтобы ее назвать властью, должна быть обобщенной, а не одной лишь функцией какого-то единичного воздействия.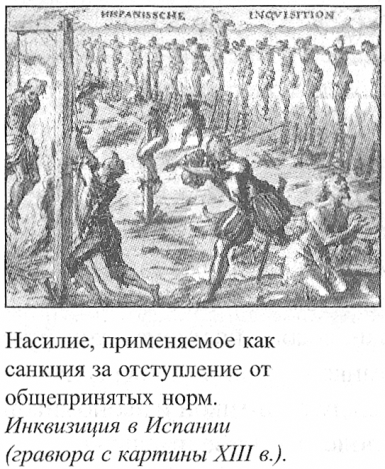 шее усложнение их экономической и политической организации, в частности, образуются устойчивые функциональные отношения типа заимодавец / должник и властитель / подвластный. Тогда уже не нужно возить повсюду золото, достаточно иметь расписку, вексель и т.п. Не стоит и окружать себя вооруженными дружинниками — вполне хватает законодательно закрепленных прав управителей и обязанностей управляемых. На этой основе и в экономике, и в политике возможно построить достаточно длинные цепочки взаимодействия и обширные сети отношений между людьми. В силу всеобщего признания закона его требования осуществляются добровольно. Санкции* (т.е. сила) применяются только к тем, кто на этот уровень сложности политической системы не поднялся или захотел поставить себя «вне закона».
шее усложнение их экономической и политической организации, в частности, образуются устойчивые функциональные отношения типа заимодавец / должник и властитель / подвластный. Тогда уже не нужно возить повсюду золото, достаточно иметь расписку, вексель и т.п. Не стоит и окружать себя вооруженными дружинниками — вполне хватает законодательно закрепленных прав управителей и обязанностей управляемых. На этой основе и в экономике, и в политике возможно построить достаточно длинные цепочки взаимодействия и обширные сети отношений между людьми. В силу всеобщего признания закона его требования осуществляются добровольно. Санкции* (т.е. сила) применяются только к тем, кто на этот уровень сложности политической системы не поднялся или захотел поставить себя «вне закона».